

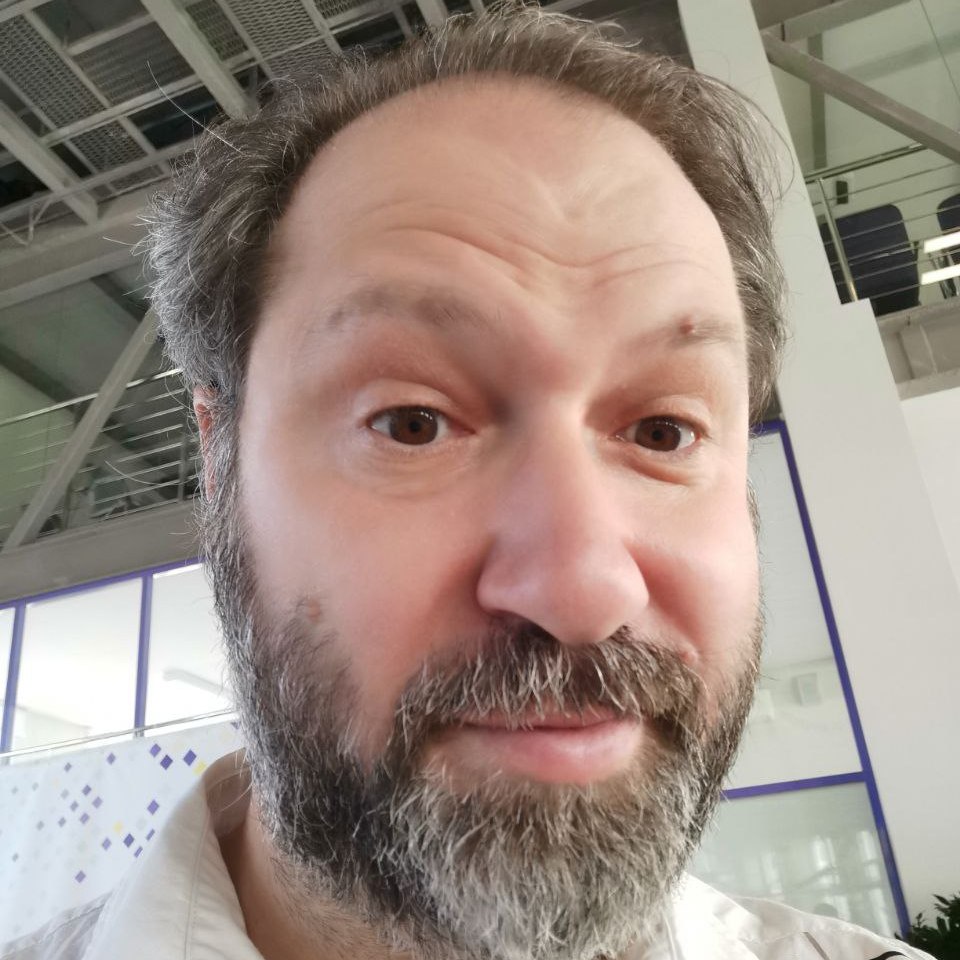
Растерянность богословов
В современном немецком языке прилагательное gemütlich означает уютный, с оттенком непринужденности и укромности. Таков уют тесноты, не оставляющей в обиде, уют множества знакомых вещей на полках, знакомой посуды и привычного освещения. Ничто не давит, не тревожит — это не уют удобства, но скорее неторопливости. Мы не скажем «уютная пивная» или даже «комфортная пивная», а в немецком языке можно говорить о скромности и укромности пивной, где ты просидишь весь вечер.
Дени де Ружмон (1906–1985), швейцарский интеллектуал, в юности побывал на берегу реки Неккар, у дома, где жил с 1807-го до смерти в 1843 году безумный Гёльдерлин. После тяжкого горя забыв себя, свое имя, повредив струны подаренного ему фортепьяно, но оставив звучать лишь избранные клавиши, Гёльдерлин смотрел на течение воды и шептал что-то по-гречески или на каком-то неведомом языке, чтобы вернуть счастье природе. Он был измучен тем, как движение, смена дня и ночи, смена социальных ролей — всё это делает время безвозвратным. Слишком многое сбывается, как мнимые декорации нашего быта заменяют настоящие. Он мечтал о возвращении богов и золотого века, когда всё сбывшееся может как бы перескочить через себя и вернуться к чистому дару.
Комната Гёльдерлина была на первом этаже, в эркере, который поэтично принято называть башней. Для самого известного интерпретатора Гёльдерлина в ХХ веке, Мартина Хайдеггера, башня была, конечно, высотой духа утратившего себя поэта — знаком того мужества, которое позволяет человеку один на один быть с языком и складывать стихи так, чтобы речь была нашей, несла то «мы», которое вернет нас всех к нашей подлинности.
Молодой де Ружмон почувствовал тревогу, ту самую фрейдовскую «недомашнесть» (Unheimlich, uncanny, что переводят как «жуткое») рядом с безумием:
«Вдруг меня охватывает тоскливая тревога. Но смотритель, он чувствует себя как дома.
— Вы спите в этой кровати?
— О! Я вполне бы мог даже обосноваться в этой комнате. Обычно здесь бывает не больше четырех посетителей за день»1.
Смотритель, согласитесь, в чем-то похож на Хайдеггера, который как раз тогда, в 1929 году, когда де Ружмон гулял по первому этажу дома, стал делать первые заметки в тетради о стихах Гёльдерлина. Именно Хайдеггер хотел чувствовать себя в поэзии Гёльдерлина как дома и дерзко хотел в ней обосноваться — в этом дерзновении больше смысла, чем в отдельных интерпретациях Хайдеггером поэзии Гёльдерлина. В дерзании быть рядом и подсказывать поэту правила работы с языком и очередного выхода в язык как в открытый космос Хайдеггер и становится настоящим философом бытия.
На той же странице Дени де Ружмон возмущается обыденности:
«Терраса прибрежного кафе в тени каштанов, звон посуды вперемешку с разговорами. <…> Бюргеры вовсю радуются чему-то за своим пивом. Gemütlichkeit. <…> И в то же время, эта комнатка совсем неподалеку…»

Комнатка не от мира сего и бюргеры от мира сего. Дени де Ружмон мечет молнии в дух поверхностного Просвещения, позволяющего людям не ставить высоких целей; и конечно, встает на сторону Гёльдерлина с его безумным шаманским путешествием на несколько десятилетий. Гёльдерлин был как все, талантливейшим поэтом-романтиком, поклонником античной гармонии и немецкой одухотворенности, но вдруг потерял душу, и осталось только что-то бормочущее тело. Это тело и обличает неправедность бюргерского мира. Вовсе не Просвещение обличает, не интеллектуалы с их высотой духа и душевными качествами, а тело!
Значит, Gemütlichkeit, уют — это что-то изначально из области духа, но потерявшее себя, растерявшееся. Это что-то близкое богословию; и де Ружмон говорит, что Гёльдерлин, студент богословия, тоже пил пиво и веселился как все. Дело не в том, что обыватель плохо мыслит, а в том, что он оказался жертвой той потери словом смысла, которая сопоставима с утратой безумным поэтом Гёльдерлином своей личности.
Человечек в зрачке
Один из создателей цифровой филологии Франко Моретти рассмотрел историю слова comfort в английском языке. Сначала это слово означало «физическая свежесть или поддержка», «облегчение», «помощь в нужде, в боли, в болезни, душевном несчастье или горе». Очевидно, что всё это подаётся свыше, принадлежит духовному порядку или промыслу Всевышнего. Но в конце XVII века, пишет исследователь, «происходит кардинальное изменение: комфорт перестает быть тем, что возвращает нас в „нормальное“ состояние из неблагоприятных обстоятельств, и становится тем, что берет нормальность за исходную точку и стремится к благополучию как самоцели, независимо от любых несчастий»2. Так слово, принадлежавшее всецело области духа, области разумных действий Всевышнего среди человеческих смятений, области самопредъявления небесным милосердием своей разумности, оказывается словом вполне профанным и даже китчевым. Нормальность — это уже не соответствие логосу, некоторой разумной мере, но как раз нечто, потерявшее всякую меру. Нет возможности рассчитать несчастья, можно только отступить от них — потому что в самоцели нет никакой меры, есть только преданность ей как какому-то внешнему требованию.
На самом деле слово Gemüt прошло несколько этапов развития. Первый этап связан с немецкой мистикой. Для Мастера Экхарта (1260–1328), как и для Парацельса (1493–1541), Gemüth (такова старая немецкая орфография) означает ту глубину души, в которой живут некие очевидности, «куколки», платоновские идеи. В том числе настоящее наше «я», непритворное, как человечек на нашем зрачке. Погружаться в Gemüth — это видеть невозможное, само наше зрение, саму ту его игру, которая и есть обретение нашего подлинного «я», не зависящего от наших усилий.
Мастер Экхарт толкует Gemüt совершенно платонически:
«Некая сила есть в душе, что зовется гемют, которую Бог сотворил по Своей мудрости, как некоторое вместилище духовных форм и разумных образов».
(«Ein kraft ist in der sele, diu heizet daz gemüete, die hat got geschaffen mit der süe wesen, diu ist ein üfenthalt geistlicher forme und vernünftiger bilde»3).
Для Экхарта Gemüt — это «голова души», то место, в котором и есть все те содержания, которые потом душа осуществляет практически. А Парацельс называет Gemüth бездной, трижды-глубиной нас самих, и прямо говорит о божественной природе этой части человека:
«И примечательнее всего, что такой Gemüth людей никто не может выразить словами. И каковы сам Бог, Первоматерия и Небо, три вечных и неизменных вещи, таков и Gemüth человека. Посему человек счастлив благодаря и в своем Gemüth, ибо в нем он живет вечно и не умрет вовек»4.
Итак, Gemüth — это начало бессмертия, эта та встреча, в которой человек становится бессмертным, обретает себя как небо и рай, который есть он сам.
Но всё изменил Лейбниц. Согласно Лейбницу, человек читает энциклопедии (т. е. усваивает науки) не через просто ум, а через гемют, т. е. может не только устанавливать связи, но и представлять наглядно действительность вещей. Слова для ума, а картинки-таблицы-схемы — для гемюта. Наталия Осминская связывает такое изменение отношения к понятию с концепцией возможных миров5. Для Лейбница гипотетическое не истина разума, а необходимость в каком-то из возможных миров. Ум не имеет дела с гипотетическим, но гипотетическое существует в возможных мирах как реальное.
Следовательно, гипотетическое — предмет не ума, а гемюта, «комфорта» мысли, то, на чем мысль успокаивается. Если слово внутриположно уму и в этом смысле реально как реальность для ума, то картинка и схема — это всегда не вполне реальность, это гипотеза, набросок, эскиз. С картинкой нельзя работать рациональными средствами, обеспечивающими достоверность и практическую значимость истины, но только с помощью особой духовной способности, которая и удостоверяет, что действительность вещей уже представлена, уже стала прибежищем нашего ума, и что ум нашел себя и среди конкретных вещей действительности, а не только собственных рассуждений.
Как и Gemüth мистиков, так и Gemüth Лейбница более чем нагляден, это наглядность не просто видимого, но самого факта зримости, самой способности нашего зрения иметь дело со зримым. Но только для мистиков это знаменовало, что в нашей душе есть глубина, куда заглядывает только Всевышний. А для Лейбница это значит, что рано или поздно науки, создающие разные частные модели истины, найдут некоторую всеобщую достоверность, которая и представит человека истине, человека во всей его духовно-душевно-телесной данности.
От Канта к магнитикам на холодильник
Дальнейший, кантовский смысл слова Gemüth, вероятно, легче всего пояснить нашим «вкладывать душу», в том смысле, как мы говорим «я вкладываю всю свою душу в работу» — вижу эту работу и любуюсь. В этом смысле вкладывающий душу напоминает библейского Творца, любующегося творением, что «и это хорошо». У Канта Gemüth — способность правильно сопоставлять представления и идеи, картография образов внутри человека, соответствующая картографии образов вне человека. Кант берет за основу схему Лейбница, но только говорит не о системе наук, а просто о работе разума.
В предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума» Кант пишет:
«Границы же логики совершенно точно определяются тем, что она есть наука, обстоятельно излагающая и строго доказывающая одни только формальные правила всякого мышления (безразлично, априорное оно или эмпирическое, безразлично, каковы его происхождение и предмет и встречает ли оно случайные или естественные препятствия в нашей душе [Gemüt])»6.
Лосский дает оригинальный термин в скобках — «душа» явно не самый удачный перевод термина на русский язык. Кант же говорит не о том, что наша душа не умеет мыслить, а о том, что наш Gemüt обладает собственным содержанием, собственной способностью оценить свой труд, а именно, труд по созданию образов и по соотнесению внутренних образов с внешними образами. Это не работа мышления, не работа умозаключения, но именно умение вложить душу в работу с внешним миром, чтобы, оценивая хорошие результаты этой работы, мы имели в виду и наши внутренние образы, что они нам награда, они позволяют нам увидеть само видение, что наш труд состоялся.
В самом начале «Трансцендентальной эстетики» «Критики чистого разума» Кант еще более откровенен:
«Созерцание имеет место, только если нам дается предмет; а это в свою очередь возможно, по крайней мере для нас, людей, лишь благодаря тому, что предмет некоторым образом воздействует на нашу душу (das Gemüt afficiere). Эта способность (восприимчивость) получать представления тем способом, каким предметы воздействуют на нас, называется чувственностью»7.
Таким образом, предмет как-то задевает Gemüt, оставляет в нем свой след; но Gemüt не есть пассивная материя, это реагирующая, чувствующая материя, которая имеет свою волю, свою картографию, саму способность предстать каким-то образом навстречу образу, навстречу северной Авроры звездою севера явиться. Это как раз тот самый «комфорт» как некоторое постоянное самопредставление себя в качестве успокоившегося, достигшего равновесия, о котором пишет Моретти — вещи здесь выступают не как символы, дающие всё большее облегчение и помощь, но только как поводы, аффицирующие нас вещи, позволяющие нам всё комфортнее реализовывать свою «чувственность», свою способность ответить образами внутренней жизни на образы, которые мы постигаем себе на пользу.
Современный китчевый комфорт, он же Gemüt, — это, конечно, возвращение к начальным «куколкам» платоновских идей Экхарта. Он присутствует тогда, когда на холодильнике достаточно магнитиков, когда все куколки и сувениры на месте, на полках и вокруг по всей комнате. Кант наверняка ужаснулся бы, если бы увидел чувственность познающего субъекта как домашнюю чувственность.
Но, вероятно, такой путь от мистики к китчу был заложен в само слово. Слово состоит из приставки Ge-, означающей целостность, завершенность, некоторую структурность, и mut — то же, что латинское modus и английское mood — образ действия и смелое действие. То есть Gemüt по смыслу слова — это поступок, та часть души, которая и есть поступок, и в сравнении с которой все остальные части души слишком разумны и приземленны. Достаточно предположить, что поступок достиг своей цели, что, как и «комфорт», поступок утешения, он стал самоцелью, как мы оказываемся в пивной с друзьями и соседями Гёльдерлина. Тогда как сам Гёльдерлин стремится сделать поступком все части своей души.
Александр Марков, профессор РГГУ
Оксана Штайн, доцент УрФУ
1 де Ружмон Д. Дневник эпохи. 1926–1946. — М.: Касталия, 2025. С. 50.
2 Моретти Ф. Буржуа: между историей и литературой. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. С. 71.
3 Цит. по. Thouard D. Gemüt // Vocabulaire européen des philosophies / ed. B. Cassin. P.: Vrin, 2004. P. 494.
4 Там же.
5 Осминская Н. А. Всеобщая наука, энциклопедия и классификация наук в ранней философии Г. В. Лейбница // Науки о человеке: история дисциплин. — М.: НИУ ВШЭ, 2015. С. 86.
6 Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. О. Лосского. — М.: Академический проект, 2020. С. 16.
7 Там же. С. 49.
