
Размышляя над книгой Роберта Сапольски
Наконец-то появилась книга биолога не о том, чем человек похож на (других) животных, а о том, что человека отличает от них (в скобках — дань взгляду автора-приматолога на главный объект и субъект антропологии). Книга содержит интереснейший материал и заслуженно стала одним из «книжных проектов Дмитрия Зимина». (В русском переводе, однако, есть ошибки и отсебятина, начиная с названия. Поэтому все цитаты ниже — в моем переводе.)
Не нашел я в книге лишь самого очевидного отличия человека — способности к творчеству, к изобретательству, благодаря которой люди меняли и меняют свой образ жизни со скоростью, невиданной у (других) животных. Зато много чего сказано о невидимом инструменте творчества — о способности к «символическому языку»: «Символический язык принес огромные эволюционные преимущества», а «высшее проявление символичности языка — использование метафор».
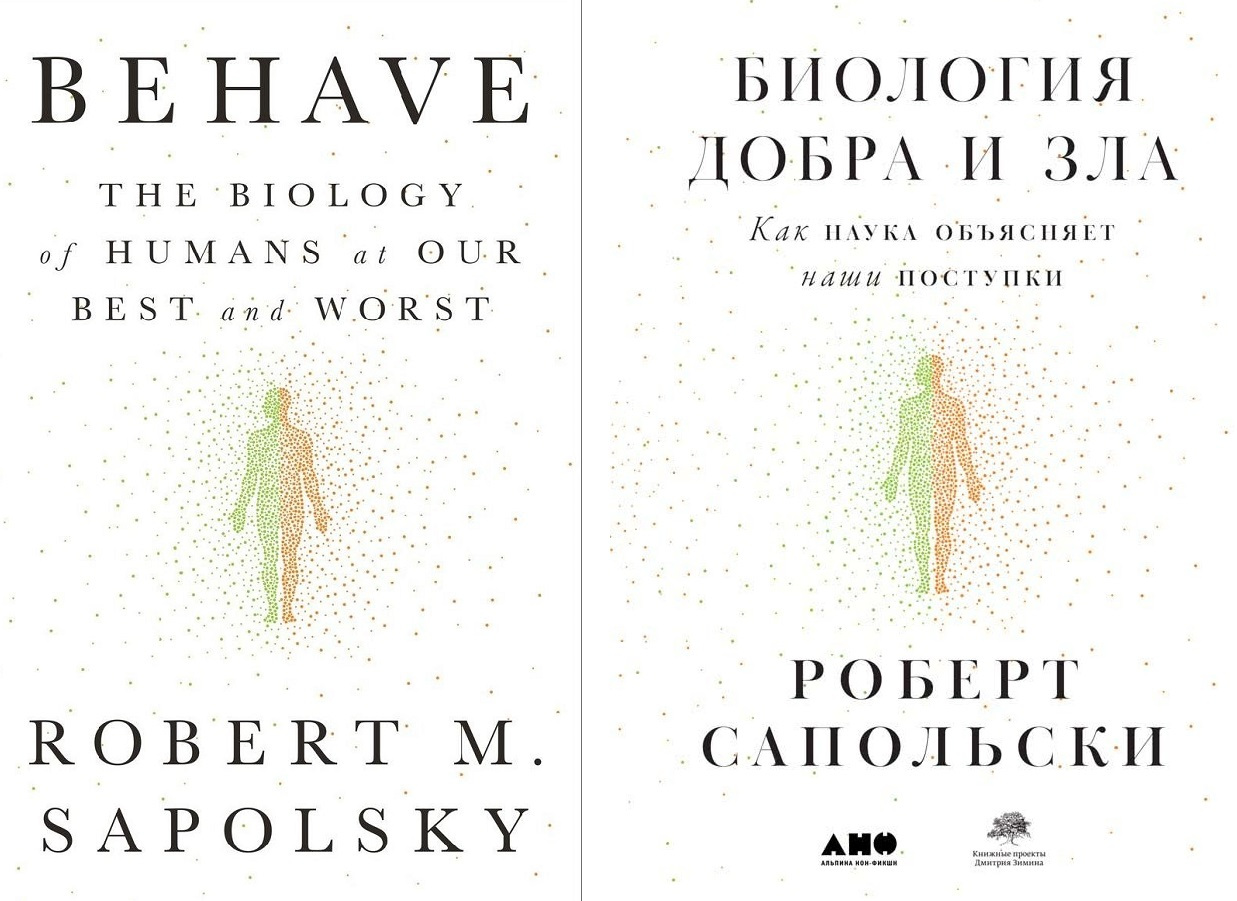
Способность употреблять слова в прямом и переносном смысле и переносить смысл как угодно далеко проявляется, быть может, ярче всего в новых словах науки. Физические термины «энергия», «инерция», «притяжение» и «отталкивание» пришли в науку из обыденного языка.
Нейробиолог объясняет, как новая — невидимая, психическая — способность человека биологически управляет его старыми животными силами в осязаемо-земном материальном мире. Однако «способности символично-метафоричного мышления появились столь недавно [~50 тыс. лет], что наш мозг, если угодно, окрыляет их, импровизируя на лету, когда имеет дело с метафорой. В результате мы плохо различаем метафорическое и буквальное, забывая, что ‘это лишь фигура речи’; и следствие этого — наши самые лучшие и самые худшие поступки».
Метафоры предполагают язык чувственных образов, а не просто формальные символы неких материальных явлений. Окрылить можно лишь эмоциональный образ, но не абстрактную идею. На взгляд историка науки, символичная метафоричность языка — лишь часть ключевой способности человека «материализовать» воображаемые конструкции — относиться с полной серьезностью к ним, а иногда материализовать в буквальном смысле. Любое изобретение начинается с воображения, с некоторой идеи, некоего образа. И если верить Эйнштейну, «воображение важнее знания, потому что знание ограничено, а воображение способно охватить весь мир, стимулируя прогресс». Лишь в воображении живут и моральные идеи — представления о самом человеке, о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Изобретение каменного топора, радикально изменив жизнь сородичей изобретателя, само по себе к морали отношения не имело. Моральное измерение возникло лишь когда этим топором кто-то убил «ближнего своего». Решится ли этот «кто-то» убить, зависит от того, какие метафоры живут в его воображении, в его сознании. Если там живет метафора «все мы — дети одного Отца», то вряд ли. Метафора эта возникла за тысячи лет до того, как генетики обнаружили митохондриальную праматерь и Y-хромосомного праотца. А то, что эти «прародители» рода человеческого жили в разное время, не отменяет всеобщего братства-сестринства.
Автор не ставит вопрос, как человек понимает (правильно или нет) метафоры другого человека. И не обсуждает, как возникают и как передаются системы «общепонятных» метафор. Но фактически подсказывает ответ, обсуждая различие КУЛЬТУР — как разных СИСТЕМ МЕТАФОР. А важнейшим системообразующим источником метафор автор-биолог назвал РЕЛИГИЮ: «Религия, вероятно, — это самое значительное изобретение, определяющее культуру, невероятно мощный катализатор как самого лучшего, так и самого худшего в нашем поведении». «Поразительно разнообразие тысяч религий, изобретенных нами», и каждая «отражает ценности той культуры, которая ее изобрела или приняла и очень эффективно передает эти ценности далее». «Мы строим культуры, исходя из верований об устройстве жизни, и способны передавать эти верования на протяжении многих поколений, даже когда людей разделяют тысячелетия, как это делает вечный бестселлер — Библия».
При этом сам автор — атеист: «В детстве я с глубоко религиозным чувством соблюдал все предписания ортодоксального иудаизма. Но в возрасте около 13 лет всё мое сооружение рухнуло. С тех пор я не способен ни к какой религиозности или духовности и скорее замечу разрушительные стороны религии, чем благоприятные. Мне, однако, нравится быть рядом с религиозными людьми, меня трогает их жизненная позиция, но в то же время я совершенно не понимаю, как они могут верить во все эти свои штуки. И страстно хотел бы, чтобы мог и я».
Это признание говорит о жизненной мудрости иудаизма, сделавшего 13 лет возрастом совершеннолетия, начиная с которого человек сам отвечает (перед Богом) за свои действия. В этом возрасте и Эйнштейн, по его словам, перешел от глубокой традиционной веры к «прямо-таки фанатическому свободомыслию». Аналогичный переход в том же возрасте совершил Андрей Сахаров от православия. Так что библейская картина мира, воспринятая детским сознанием, не мешает взрослому свободомыслию. А, возможно, и помогает, вселяя в сознание библейскую метафору человека свободного и ответственного за свои действия, потому что «просто-напросто» таким его создал Творец мира.
Чем же биологу-вероотступнику симпатичны его бывшие единоверцы? Не остался ли он их единоверцем в чем-то очень важном, даже не признавая реальность чего-либо сверхъестественно-неземного? Он сам же подсказывает мысль, что это «очень важное» — общие метафоры, «самоочевидные истины», определяющие культурную общность в делах земных — в восприятии себя самого и ближних своих. Для американского биолога, полагаю, самоочевидные истины, помимо неотъемлемого права человека на свободу, включают и веру в то, что следует с любовью относиться к ближним своим, помогать сироте и вдове и не обижать пришельца. Все эти истины будущий биолог впитал, приобщаясь ко вполне определенной культуре прежде всего в семье еще до 13 лет. И позже, знакомясь с историей своей страны, легко, думаю, принял историческую формулировку 1776 года: «Мы считаем самоочевидными истинами то, что все люди созданы равными, что они наделены своим Создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых — права на жизнь, свободу и стремление к счастью, а чтобы обеспечить эти права, учреждаются правительства, власть которых основана на согласии управляемых».
Взрослый биолог-атеист, вероятно, предпочел бы опустить слова «своим Создателем», но мог и не требовать этого из уважения к отцам-основателям нового государства. Главное — вполне земные и самоочевидные истины о том, как обустраивать жизнь.
Авторы Декларации независимости, мятежники в глазах британского короля, мыслили самостоятельно и в государственном строительстве, и в религии. Томас Джефферсон, в частности, задолго до Льва Толстого составил «сводное Евангелие», опустив все упоминания о чудесах.
Религиозное свободомыслие, опирающееся на Библию, которое привело к Реформации, привело также к идее веротерпимости и отделения церкви от государства. Совершенно отчетливо эту идею выразил Джон Локк, изобретатель принципа разделения властей. Обе идеи были реализованы впервые в Новом Свете при создании нового государства. Насколько такое сочетание казалось странным в Старом Свете, засвидетельствовал француз Алекси́с де Токви́ль, аристократ по происхождению, юрист по образованию и политический мыслитель по призванию, который в 1831 году почти год путешествовал по Америке и написал о своих наблюдениях: «Прибывв Соединенные Штаты, я прежде всего был поражен религиозностью этой страны, а впоследствии осознал огромные политические следствия из такого положения дел, для меня непривычного. У нас, во Франции, религиозная вера и дух свободы почти всегда направлены противоположно. А в Америке эти силы тесно связаны и властвуют сообща. Желая понять причину этого, я спрашивал верующих и особенно священников разных вероисповеданий. Все эти люди, расходясь лишь в деталях, объясняли мирную власть религии в своей стране главным образом тем, что церковь полностью отделена от государства».
Уже из этого сопоставления видно, почему в Старом Свете библейскому предрассудку свободы было труднее укрепиться, чем в Новом. В Европе церковь слишком долго держалась за мирскую власть, слишком долго подавляла свободу мысли, не было такого религиозного разнообразия, какое образовалось в Америке. Но всё разнообразие иммигрантов из Европы и их потомков можно было охватить единой суперконфессией «Библейский теизм». И даже культурных евро-американских атеистов и агностиков можно было назвать «библейскими», поскольку главным общим текстом всех культур Европы Нового времени была Библия, образы и идеи которой, растворенные в европейских языках и литературах, были знакомы и тем, кто их не считал божественными.
Не только американский биолог-атеист Роберт Сапольски ощущал удивлявшую его моральную общность с теистами. Православный священник-богослов Александр Шмеман, с горечью писавший о том, что «эмпирическое Православие насквозь проникнуто идолопоклонством» [1], ощущал симпатию к некоторым людям, совершенно нецерковным (и, значит, неправославным), а в «мировоззренческом и моральном максимализме» таких людей, как Андрей Сахаров, видел больше христианского, чем в риторике иных клириков.
Похоже, что в обоих случаях главной была моральная (а не а/теистическая) общность — или, следуя автору-биологу, общность культурных метафор, определяющих отношение человека к земным явлениям, прежде всего к другим людям и к самому себе.
Моральный водораздел проходит и внутри церкви, и за ее оградой. «Православный идолопоклонник», презирающий всех неправославных, и патриот-сталинист, мечтающий надавать по мордасам всем загранцам, легко объединяются в почитании икон Сталина [2].
С другой стороны водораздела теистов и атеистов объединяет «религия свободолюбия», единственный постулат-догмат которой — принимаемое на веру неотъемлемое право человека на свободу, ограниченное лишь таким же правом других людей.
Сказав это, я прежде всего вспомнил два хорошо известных мне примера.
Андрей Сахаров, недвусмысленно писавший о своем религиозном чувстве [3], считал «религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же, как и атеизм», и знал, что «люди находят моральные и душевные силы и в религии, а также и не будучи верующими». В его близком окружении преобладали атеисты: отец, любимый учитель, обе жены, большинство друзей и коллег. А среди правозащитников рядом с Сахаровым теистов и атеистов было примерно поровну.
Другой пример открылся мне в публикации беседы журналистки Юнны Чуприниной с поэтами Семеном Липкиным и Инной Лиснянской (см. сборник «Угль, пылающий огнем») [4]. Об этой супружеской паре впервые я услышал от Лидии Чуковской, которая говорила о своих друзьях с какой-то ласковой улыбкой, любуясь жизненным союзом очень разных личностей. Из публикации узнал, что различались они и религиозно: Липкин — иудей, Лиснянская — православная. А Лидия Корнеевна о своем отношении к религии писала в дневнике: «Моя душа к религии неспособна. Не говорю уж к церковности. Искусство, честь, достоинство человеческое, справедливость — вот моя религия. Ненависть к насилию, в особенности над мыслью» [5].
Все трое верили вопреки канонам любой конфессии: иудей любил Христа, православная считала, что дела важнее веры, атеистка после исключения ее из советских писателей (и, значит, запрета на публикации) так объяснила, почему продолжала работать над своими рукописями: «Ведь не с самозванцев же[, исключавших ее,] спросится на Страшном Суде, а с меня». А рассказ об очередной встрече с Сахаровым завершила словами: «Да хранит его Бог».
Липкина с Лиснянской тоже исключили из советских писателей, но, главное, все трое свято верили в неотъемлемое право человека на свободу. Двое могли обосновать эту веру замыслом Бога о человеке. Чуковской обоснование не требовалось, право на свободу она считала самоочевидной истиной. Именно вера в свободу мысли и свободу воли человека объединяла этих троих.
Почему для Лидии Чуковской религиозное обоснование ее веры в свободу не требовалось и было невозможно, это — тайна ее души и загадка биографии [6]. Восприимчивость к религиозным образам и способность согласовать веру с разумом коренятся где-то в глубине личности, проявляясь «в тайне веры и в тайне неверия» [7], как выразился священник Иоанн Привалов, говоря о Лидии Чуковской.
Культурная общность имеет, разумеется, происхождение общеисторическое и биографическое, у каждого свое особое. Но человек не обязан держать всю эту историю в голове и не помнит своих первых — с самого рождения — приобщений к родной культуре.
Чуковская, как и Липкин с Лиснянской, сформировалась в культуре, важнейшее земное содержание которой — представление о свободе человека. Поэтому, при всех их различиях, им было легко и хорошо друг с другом.
Нейробиолог объяснить это вряд ли сможет, если он не объяснил себе-атеисту, почему ему «нравится быть рядом с религиозными людьми» и почему его «трогает их жизненная позиция».
Ему в утешение я бы напомнил слова одного из первых астрофизиков в ответ на восторги по поводу решимости физиков описать устройство звезды: «Звезда — очень простой объект по сравнению с человеком». За прошедший с тех пор век астрофизика продвинулась необычайно широко и глубоко, чего не скажешь об изучении человеческого сознания. До сих пор, в частности, нет общепринятого объяснения, почему со времен античных и до наших дней среди свободно мыслящих людей всегда были и теисты, и атеисты.
Несомненно, однако, что теисты и атеисты, способные сказать новое слово в науке, фактически исповедуют религию еретического свободолюбия.
Нейробиолог-приматолог и научный атеист Р. Сапольски говорит и пишет, что не очень верит в свободу воли. Однако, наблюдая за тем, что он пишет и как говорит, я лично сомневаюсь в его неверии в свою свободу. И вспоминаю фразу, которую не раз цитировал Главный раввин Великобритании и член палаты лордов Джонатан Сакс: “We have to be free. We have no choice” («Мы вынуждены быть свободными. У нас нет выбора»).
Наука пока не объяснила этот парадокс сознания у загадочно единственного вида рода Люди в отряде приматов. Ну и слава Богу!
Геннадий Горелик,
канд. физ.-мат. наук
- dom-knig.com/read_371542-100
- ru.wikipedia.org/wiki/Икона_«Матрона_и_Сталин»
- trv-science.ru/2019/08/27/prosvetitelstvo-i-zagadka-sovremennoj-nauki-2/
- maxima-library.org/knigi/knigi/b/447627?format=read
- profilib.org/chtenie/40123/lidiya-chukovskaya-dnevnik-bolshoe-podspore-53.php
- snob.ru/profile/30651/blog/153094
- gazetakifa.ru/content/view/3823/


Есть места, где перевод делали левой ногой
На ютубе есть его чумовые лекции https://www.youtube.com/channel/UCY6zVRa3Km52bsBmpyQnk6A
В полной версии https://snob.ru/profile/30651/blog/159188
дано более подробно Священное описание и Священное предание мировой религии Свободолюбия
[…] Что (не) может объяснить приматолог-нейробиолог? // ТрВ-Наука 2019/09/10 […]
https://ggorelik.wordpress.com/2016/01/09/добро-пожаловать/
[…] (краткая версия Что (не) может объяснить приматолог-нейробиолог? — Троицкий вариант — Наукаhttps://www.trv-science.ru/2019/09/chto-ne-mozhet-obyasnit-primatolog-nejrobiolog/#comments) […]